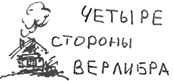
«VERSUS» VS «PROSA»:
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(Резюме)
М.И. ШАПИР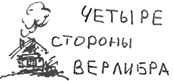
«VERSUS» VS «PROSA»:
ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
(Резюме)
Форма, содержание и материал переплетаются в слове настолько тесно, что
проблема стиха и прозы, являющаяся по сути проблемой отношения речевых форм,
подменяется и затемняется двумя другими фундаментальными теоретико-стиховедческими
проблемами: одна из них — отношение формы к материалу, или «стих и язык», другая
— отношение формы к содержанию, или «стих и смысл». Кроме того, смешение проблем
происходит еще и потому, что отличие стиха от прозы во многих случаях действительно
носит материальный или содержательный характер: поэтический язык зачастую не
совпадает с языком прозаическим ни по составу, ни по семантике. Вместе с тем,
собственно материальные отличия стиха от прозы все без исключения факультативны.
Нет такого элемента стихотворного языка, который при желании нельзя было бы пересадить
в прозу: она, как известно, бывает метрической и рифмованной, а стих, в свою
очередь, умеет обходиться и без метра, и без рифмы, и без прочих инструментов
явного насилия над языком. То же самое можно сказать и обо всех собственно семантических
отличиях стиха от прозы: любое отвлеченное содержание (отчуждаемое от стихотворной
формы) может стать достоянием прозы, равно и наоборот: нет такой темы, мотива,
эмоции и т. д., которые были бы застрахованы от миграции из одного типа речи
в другой. Специфически стиховыми окажутся лишь те аспекты семантики, что связаны
напрямую с «разрешающей способностью» формы, позволяющей выразить в стихе то
и главное так, что и как невозможно выразить средствами прозы. Таким образом,
если граница между стихом и прозой существует, ее имеет смысл искать единственно
в области формы.
Среди различных подходов к формальному определению стиха наибольшим авторитетом пользуется идея его «двойной сегментации»: «Любой текст членится на соподчиненные синтаксические отрезки; но в стихотворном тексте с этим <...> сочетается членение на стихотворные строки и на более крупные и мелкие, чем строка, стиховые единства <...> второе членение то совпадает, то расходится с первым, создавая бесчисленные возможности ритмико-синтаксических соотношений» (Бухштаб). Наибольшие сомнения вызывает характеристика стиховой сегментации как «двойной». Даже проза, помимо синтаксических, имеет немало других членений, причем границы значимых единиц не всегда совпадают с границами единиц незначимых: слог бывает не равен морфеме, такт — лексеме, а колон — синтагме. Стихи также не образуют сети обязательно соподчиненных сегментов: ритмическое единство (строка) не всегда тождественно единству метрическому, рифма может быть разорвана клаузулой и перенесена в начало следующего стиха и т. д.
Стиховые единства, по размеру меньшие, чем строка, могут встречаться и в прозе; стиховые единства, по размеру большие, чем строка, вторичны по отношению к ней. Поэтому первый из тезисов Бухштаба по сути сводится к следующему: стихи отличаются от прозы самим делением на стихи. Это определение стихотворной речи в начале 1920-х годов независимо друг от друга предложили Кенигсберг, Томашевский и Тынянов. Недостаток их дефиниции — не в кажущейся тавтологичности, а в неполноте: мы не знаем, в чем заключается своеобразие стихотворной строки по сравнению с любой другой. Томашевский усмотрел specificum стиха в его расчлененности на отрезки, соотносимые и соизмеримые: «<...> дробление стихотворной речи на „стихи“ <...> звуковая потенция которых сравнима между собой, а в простейшем случае <...> просто равна <...> и является <...> специфической особенностью стихотворной речи».
Однако «сопоставимыми» и «соизмеримыми» бывают не только стихи, но и прозаические колоны; с другой стороны, соседние строки порой контрастируют сильнее колонов иной прозы. Считается, что критерием соизмеримости в стихах служат слова, слоги или стопы; но эти же мерки можно использовать при сравнении колонов в метризованной прозе. В то же время к разным строкам одного стихотворения не всегда удается подойти с общей меркой: так, в вольном стихе XVIII в. одни строки мерятся ямбическими стопами, другие — хореическими, третьи — просто слогами. Стихотворные строки не столько сравниваются, сколько уравниваются. Стих отличается способностью сопоставлять то, что в прозе несопоставимо, и соизмерять то, что несоизмеримо: иными словами, в стихе появляется новое, дополнительное измерение.
Первым о двухмерности стиха сказал Томашевский: «<...> если проза протекает линейно, то стих есть речь двух измерений». В стихе «движение речи происходит в двух направлениях: от слова к слову, и от одной ритмико-синтаксической части стиха к аналогичной части следующего стиха». Движение от стиха к стиху Томашевский назвал «вертикальным» — надо думать, представляя горизонтальным движение «от слова к слову». Сказанное Томашевским нуждается в существенном уточнении: всякий письменный текст расположен «на плоскости» и в этом смысле имеет две пространственных координаты. Следует понять, что измерения стиха — не физические и что их больше, чем два.
У семиотиков вошло в привычку рассматривать пространство как текст; для наших целей плодотворнее рассматривать текст как пространство. Воспринимающему субъекту «внешнее» пространство видится «положительным»: расстояние до любой точки в нем выражается положительной величиной. «Отрицательным» оказывается пространство «внутреннее», в той или иной форме отражающее внешний мир и симметричное ему относительно оси времени. Одним из способов экстериоризации внутреннего пространства служит текст на «естественном» языке: подобно физическому миру, он обычно имеет три ортогональных измерения. Первое задано протяженностью текста от начала к концу; с долей условности эту координату можно назвать речевой. Второе измерение организуется иерархией грамматических уровней (морфемного, лексемного, синтаксического и других), параллельно которой разворачивается иерархия чисто формальная: дифференциальные признаки — фонемы — слоги — такты — колоны etc.; эту координату текста я назвал бы собственно языковой. Значимая и незначимая единицы, даже находясь в одном и том же месте текста, на одном и том же иерархическом уровне, будут обязательно отличаться по третьей координате — семиотической: любой знак, вне зависимости от уровня, занимает особое положение на оси предмет — понятие.
Вдоль трех координатных осей ориентирована любая проза; в стихе к ним прибавляется четвертое измерение — стиховое, ни в коем случае не отменяющее остальных. Каждый стих имеет длину, грамматику и семантику, которые отнюдь не полностью предопределены его речевым наполнением. Автономизация длины поэтической строки связана с ее стихотворным размером. Автономизация стиховой грамматики проявляется в разнообразных параллелизмах, enjambement’ах, в ритмико-синтаксических клише, в грамматикализации (или деграмматикализации) рифмы и прочем. Наконец, автономизация семантики стиха вызвана его способностью передавать метрические значения и ритмические смыслы. Соседние стихи друг от друга нередко разительно отличаются длиной, грамматикой или семантикой: по каждой из трех координат они могут быть несопоставимы, но по четвертой — как стихи — равны (именно равны, а не «соотносимы» и «соизмеримы»).
В стихотворном тексте четвертое измерение в дополнение к квази-пространству формирует квази-время: ритм стиха, вытесняющий и замещающий «реальное» время, сам начинает играть роль поэтического времени. Как подчеркивал Якобсон, «протяженность во времени — это решающий фактор в структурировании всякого метра». «Только в поэзии, где регулярно повторяются эквивалентные единицы, время речевого потока переживается». При этом имеет значение вовсе не объективная продолжительность чтения или исполнения, а, так сказать, «внутреннее время» текста: стихотворная речь сама ощущается как длительность, для измерения которой служат единицы поэтического ритма. Каждая единица, воспринимаемая теперь, напоминает об аналогичных единицах, уже отошедших в прошлое, и предсказывает их появление в будущем.
Стих становится четвертой координатой не потому, что записан в столбик; куда важнее, что стих не является еще одним уровнем языка. В прозе единицы более низких уровней без остатка входят в состав единиц более высоких: фонемы складываются из дифференциальных признаков, слоги — из фонем, такты — из слогов, колоны — из тактов; не иначе обстоит дело со значимыми формами: слова состоят из морфем, предложения — из слов, сверхфразовые единства — из предложений. Стих же, будучи важнейшей композиционной единицей, обладая узуальной и окказиональной семантикой, может разрезать на части единицы других уровней: стиховая граница нередко проходит внутри предложения, словосочетания, слова, морфемы (а иногда внутри такта или слога), и в этих случаях нельзя сказать, что стих из них «состоит».
Раздробление лексического, морфематического или слогового целого, распределение его «обломков» между двумя ритмическими единствами — это крайнее выражение той возможности несовпадения разных членений, о которой уже шла речь. Однако сказать всего лишь о наличии такой возможности — значит не сказать ничего. По словам Бухштаба, «второе членение то совпадает, то расходится с первым», но насколько часто совпадает и насколько часто расходится, остается только догадываться. Общепринято, что синтаксические и метрические границы совпадают достаточно часто, — я беру на себя смелость утверждать, что потенциальное противоречие между грамматикой и стихом реализовано в подавляющем большинстве литературно-поэтических произведений. Оно заключается в рассогласованности ритмической иерархии с грамматической: одноуровневые стиховые позиции сплошь и рядом заполняются разноуровневым грамматическим материалом, и наоборот. Рассогласованность стиха и грамматики не ограничивается концами строк. Как известно, она может проникать внутрь строки, а может захватывать группы строк: строфоиды, строфы и так далее. Жирмунский, однако, настаивал, что в каждом стихотворении enjambement’ы, «как бы часты они ни были, „разрешаются“ (как диссонанс) в последующих случаях, где конец предложения совпадает с концом стиха». Тем не менее, вопреки Жирмунскому, противоречие между ритмом и грамматикой иногда имеет место даже на границе произведения — в начале его и в конце.
Синтаксическая неполнота строфы или произведения мыслится по аналогии с неполнотой строки и, как уже говорилось, вторична по отношению к ней. Ритмико-синтаксическая дисгармония внутри стиха также во многом аналогична переносам в конце строки. Но сходство эффектов, наблюдаемых на клаузуле и на цезуре, не должну заслонять кардинального различия между ними: если слово разделено клаузулой, побеждает поэтика, а если цезурой — грамматика: стих становится бесцезурным. Цезура лишена той принудительности, которой обладает клаузула и которая одна только делает стих стихом, создавая предпосылки для конфликта между грамматикой и ритмом. И все же при определении стиха этим ограничиваться нельзя: рассогласование автономных иерархий семантически релевантных единиц, будучи достаточным признаком стиха, в то же время не является необходимым. Когда грамматические членения смещены относительно ритмических, распознать стих нетрудно, но как отличить его от прозы, когда между ритмом и грамматикой никакого противоречия нет?
Абсолютное совпадение стиховой и грамматической сегментации достигается исключительно редко. Но учесть произведения, где рассогласованность членений вплотную приближается к нулю, нужно во что бы то ни стало, потому что на этих примерах, когда прочие признаки отсутствуют, можно увидеть, чем стих от прозы отличается при любых обстоятельствах. По мере того как противоречия между грамматикой и стихом исчезают, раскрывается парадигматический характер собственно стиховых членений: две иерархически равных стиховых единицы выступают как представители одной парадигмы: ритмической, ритмико-синтаксической, лексико-ритмико-синтаксической и так далее, и в этом качестве они эквивалентны друг другу. На какой интерпретации понятия «парадигма» мы бы ни остановились, стих обладает почти всеми характеристиками парадигматической структуры — всеми, кроме одной, которая как раз и определяет своеобразие стихотворной речи. В лингвистической теории синтагматические связи мыслятся in praesentia, а парадигматические — in absentia: члены одной синтагмы сосуществуют, члены одной парадигмы друг друга взаимоисключают; парадигматическими считаются отношения между формой, которая в тексте есть, и теми, которых в нем нет. Но в стихе парадигматические связи из состояния in absentia переводятся в состояние in praesentia.
Ближе других к пониманию этой особенности стиха подошел, по-моему, Якобсон, осознавший «поэтическую функцию языка» как проекцию «принципа эквивалентности с оси селекции на ось комбинации». Терминами «синтагматика» и «парадигматика» Якобсон при этом не пользовался, но полагал их, как вытекает из других его работ, синонимами «селекции» и «комбинации». Поэтому тезис Якобсона мы можем переформулировать так: в поэтическом языке синтагматика строится по законам парадигматики. При всем сходстве этого утверждения с тем, о чем говорилось выше, в качестве дефиниции стиха оно использовано быть не может: в намерения Якобсона входило не определение стиха, а изучение любых симптомов эстетической функции языка. Однако отправлялся в своих размышлениях Якобсон именно от поэзии, и в силу этого его формулировки, недостаточные для спецификации стиха, порой выходили слишком сильными по отношению к художественной прозе.
Главное, чего нет у Якобсона и что должно быть в опредении стиха, — это указание на появление еще одной координатной оси. В поэзии, пишет Якобсон, «эквивалентность становится конституирующим моментом последовательности». Но было бы неверно думать, что в стихе синтагматическая последовательность просто материализует парадигматическую систему языка. Ритм и синтаксис, парадигматика и синтагматика — это два автономных измерения; они остаются самими собой вне зависимости от того, противоборствуют или вступают в союз. «Эквивалентность» свойственна исключительно единицам, разворачивающимся вдоль четвертой координаты; по остальным измерениям речевые отрезки не эквивалентны, а (в лучшем случае) сходны. Сходство сегментов возможно и в прозе, тождество — только в стихе: стих — своего рода проекция с оси тождества на ось различия. Конечно, всякое тождество существует лишь на фоне различий, а различие — на фоне тождества; так вот в аспекте парадигматики речевые формы отождествляются, несмотря на их некоторое несходство, а в аспекте синтагматики — различаются, несмотря на отдельные совпадения. Члены синтагмы — это части целого, а члены парадигмы — модификации целого: два слова в синтагме различаются (например как члены предложения), две словоформы в парадигме отождествляются (например как падежные варианты одного и того же слова). Подобным образом слоги со слогами, стопы со стопами, такты с тактами, стихи со стихами, строфы со строфами, невзирая на фактическое различие, иногда довольно значительное, соотносятся как варианты единого инварианта и тем самым отождествляются по принадлежности к общей парадигме.
Применительно к стиху концепция Якобсона имеет и другой недостаток. Остается открытым вопрос, в какой мере поэтическая речь есть последовательность эквивалентных сегментов: вся от начала до конца или же выборочно, местами. Парадигматические отношения между отрезками речи фиксируются и в метрической прозе, но там они факультативны и идут поверх синтагматических. В стихе, напротив, синтагматические членения накладываются на парадигматические: как писал Винокур, «материал языка» «как бы просеивается» через «метрическую форму». В отличие от прозы стих содержит проходящие через весь текст, то есть сквозные, принудительные парадигматические членения. Визуальную принудительность им обеспечивает стиховая графика, акустическую — стиховая интонация. Там, где сквозного и принудительного деления на стихи нет, при столкновении ритма и грамматики верх одерживает последняя. На границе стихов автономизация ритма достигает своего предела; напротив, внутри стиха, так же как в прозе, ритм создается, в первую очередь, средствами самой грамматики. Поэтому, переписав стихи прозой, мы в прозу их и превратим: все клаузулы, лишившись принудительного характера, станут наподобие цезур.
Известно, при каких условиях парадигматические связи возникают между элементами прозы; надлежит выяснить, могут ли синтагматические связи устанавливаться между элементами стиха. Синтагматика диктует правила, по которым части собираются в целое: она накладывает ограничения на комбинации языковых форм. Действуют ли аналогичные ограничения в стихе? В общем случае ответ отрицательный. Законы стиха главным образом нормируют внутреннее устройство элементов, и коли две единицы в поэтическом тексте правомочны, то, скорее всего, правомочна и свободная их перестановка. Так, в ямбе наименьшей стихообразующей парадигматической единицей является двусложная стопа, встречающаяся в нескольких ритмических вариантах. Все они равноправны и взаимозаменимы, за одним исключением: в классической силлабо-тонике ударность конечного икта стремится к 100%, то есть на месте последней стопы могут стоять только ямб или спондей. Это налагает некоторые ограничения на сочетаемость парадигматических единиц. Но во-первых, все синтагматические связи между единицами стиха факультативны: стих может обходиться без них, оставаясь самим собой (то же правило ударной константы в русском ямбе спорадически нарушается с конца XVIII в.). Во-вторых, все синтагматические связи между стиховыми единицами более низкого уровня оборачиваются парадигматическими связями на уровне более высоком: последняя стопа ритмически не тождественна предыдущим стопам той же строки, но зато тождественна последним стопам других строк. Эти строки соотносятся друг с другом как равноправные и взаимозаменимые репрезентанты единой ритмической парадигмы.
Таков универсальный механизм превращения синтагматики в парадигматику: если синтагматически связаны стопы, парадигматически будут связаны строки, если синтагматически связаны строки, парадигматически будут связаны строфы. Один из самых распространенных видов синтагматических отношений в стихе — это рифма (часто вкупе с альтернансом). Стихи, скрепленные рифмой, функционируют уже не только как варианты целого (формы одной парадигмы), но и как части целого (строфы или строфоида). Ограничения, которые рифма накладывает на сочетания стихов, сродни синтаксическому согласованию, ограничения, которые накладывает альтернанс, — в чем-то сродни управлению. Но строфы, составные части которых связаны между собой синтагматически, находятся с соседними строфами в отношениях парадигматических: это взаимозаменимые варианты одного инварианта.
Трансформация стиховой синтагматики в парадигматику отчетливо видна в логаэдах. Тут синтагматически связаны не ритмически, а метрически нетождественные единицы. Допустим, в сапфической строфе сочетаемость дактилей и хореев подчиняется строгим ограничениям, в чем-то родственным синтаксическому примыканию. Однако первый стих ко второму, а второй к третьему относятся как равноправные парадигматические формы: все они имеют одинаковую метрическую структуру: хорей — хорей — дактиль — хорей — хорей. Четвертый стих с предыдущими связан опять синтагматически (он имеет особую конфигурацию: дактиль — хорей), но четыре строки вместе составляют строфу, которая вступает в парадигматические отношения со всеми другими сапфическими строфами — как в данном стихотворении, так и за его пределами.
Когда в синтагматическое целое складываются строфы, они образуют суперстрофу или еще более сложную форму устойчивого сцепления строф, например сонет французского типа. Катрен с катреном или терцет с терцетом объединены в нем не только парадигматически, но и синтагматически, поскольку связаны общей рифмой. Помимо того, все четыре строфы выстраиваются в жесткую синтагматическую последовательность: катрен — катрен — терцет — терцет. Однако незыблемость этой последовательности превращает синтагматическое «согласование», «управление» и «примыкание» строф в инвариант, модификацией которого является каждый сонет: он парадигматически связан со всеми другими сонетами соответствующей рифмовки. Любые формы, в которых все произведение является парадигматической константой, имеет смысл называть твердыми.
В связи с проблемой границы стиха и прозы первостепенный интерес представляет такая твердая форма, как моностих. В одностишиях иерархия стиховых членений по большей части не противоречит синтаксису. Стихом их делает включенность в систему парадигматических отношений: как сонет продолжает быть сонетом, даже когда написан не традиционным 5- или 6-стопным ямбом, а сверхкраткими 1-сложными строками, так и моностих остается моностихом, даже когда не имеет метра. Владимир Марков прав, напоминая, что «не бывает стихов вне стиховой традиции»: ямбическая строка «ощущается как ямбическая не только на фоне других напечатанных, но и воображаемых». С оговорками можно признать и то, что среди других «одностроков строка, не подходящая ни под один из <...> размеров <...> будет ощущаться как однострочный верлибр». Но главное, моностих осознается как таковой на фоне других одностиший (вне зависимости от стихотворного размера).
Надо сказать, что ограничения, накладываемые на сочетаемость и взаимозаменяемость единиц, бывают не только синтагматической, но и парадигматической природы. В этом нет ничего, что противоречило бы сути парадигматических отношений. Лингвисты до сих пор не договорились, входят ли в парадигму формы, которые встречаются в одной позиции, или формы, которые чередуются в зависимости от контекста, но при этом отождествляются в сознании. Л. Ельмслев учил, что парадигму образуют взаимозаменимые единицы, но его воззрения на этот счет были аргументированно оспорены. Однако даже если определять парадигму через позиционное чередование элементов, я не вижу ничего странного в том, что в стихе парадигматические формы сосуществуют: в этом его отличие от прозы. И подобно тому как в прозе теоретически взаимоисключающие члены морфологической парадигмы иногда могут взаимозаменяться, в стихе теоретически взаимозаменимые члены ритмической парадигмы могут время от времени утрачивать свою эквивалентность.
Единицы одного стихового уровня, как правило, взаимозаменимы, потому что они — формы одной и той же парадигмы. Но ведь они — разные формы этой парадигмы, и там, где обыгрывается их разница, они перестают быть эквивалентными и занимают в стиховой композиции каждая свое особое, именно ей принадлежащее место. Случается это, впрочем, лишь тогда, когда текст продуцируется как исчисление ритмической микропарадигмы, которую строки стихотворения полностью презентируют и исчерпывают. Назначение развернутых микропарадигм — шаг за шагом перебрать все возможные сочетания варьируемого элемента ритма с постоянными. Стихотворения такого рода, не являясь твердыми формами, имеют фиксированный объем, продиктованный размерами микропарадигмы: ни одно из них не могло бы быть длиннее или короче хотя бы на стих или на строфу.
Итак, стих — это система сквозных принудительных парадигматических членений, структурирующих четвертое измерение текста. Наряду с квази-пространством в стихе отсчитывается квази-время, мерой которого становятся единицы поэтического ритма. Но, пожалуй, всего поразительнее то, что, помимо времени, стих моделирует вечность или то, что под ней подразумевается. Как категория мира физического вечность нам не дана, и вполне вероятно, что она всего лишь интеллектуальный конструкт. Однако в стихе поэтическая вечность становится не меньшей реальностью, нежели поэтическое время, и образ ее создается парадигматической сеткой стиха. Вечность потенциально и актуально заключает в себе все времена: то, что было, что есть, что будет, и то, что могло бы случиться, хотя не произойдет никогда. Каждый стих — это член парадигмы, открытой и неисчерпаемой: еще По сделал вывод, что «возможные вариации размера <...> абсолютно бесконечны». Их инвариант разом вмещает все стихи данного метра: те, что были, и те, что будут, и те, что могли бы быть, и каждый из них существует как ритмическая форма постольку, поскольку существует размер. Но если стих — единица времени, то инвариант, вобравший все времена, — не что иное как поэтическая вечность: он пребывает «вне времени и пространства» текстов, обретающих стиховое измерение исключительно благодаря ему.